
я поймала букет

скоро в отпуск

А у вас тут чего нового?





 .
. . Что я могу сказать, кроме того, что мне очень жалко, что он закончился? Вот он сам пишет:
. Что я могу сказать, кроме того, что мне очень жалко, что он закончился? Вот он сам пишет:



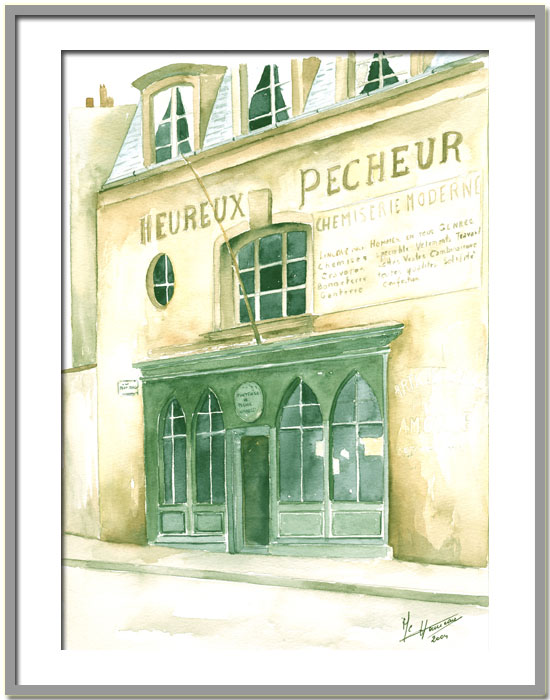

 , а ощущение именно такое — как будето слушаешь, а не читаешь. Во-вторых, я позорно не знала о жизни Моэма почти ничего, так что теперь наверстываю, и это весьма интересно. Я и предположить не могла, что «Бремя страстей..» настолько автобиографично. То есть насчет каких-то моментов (например, как Филип утрачивает веру) я была уверена, что их Моэм с себя писал, потому что, мне кажется, такие вещи нельзя так описать, если они не происходили внутри тебя самого, но вообще не думала, что фактическая канва настолько совпадает с биографией автора. Если судить по кратеньким оговоркам, даже обе любовные линии Филипа имели место быть с самим светилом английском литературы, о ужос. И еще радуют такие очень человеческие детали: что он терпеть не мог, когда до него несанкционированно дотрагиваются, или что жалел, что не может как следует напиться в компании, потому что организм помногу не принимает, а то б, наверно, ему спьяну было проще людей любить. И наконец, Моэмчик заставляет меня заделывать дыры в банальной эрудиции и вообще слегка разминать моск — выписывать и гуглить незнакомые фамилии, вспоминать Беркли с Юмом, составлять списки «маст рид» и «маст перерид», и это приятнее всего. Последний раз я так вот сидела с бумажкой, ручкой и гуглем, когда читала «Маятник Фуко», но до эрудиции Эко дотянуться совершенно нереально, а моэмовская радует своей принципиальной достижимостью. Очень люблю вот именно такую прозу, бесссюжетно-рассуждательную, с кучей отсылок иногда к знакомым тебе источникам, иногда — нет, помнится, в последний раз мне так же доставляли оруэлловские «Мысли в пути», только эссе Оруэлла были иногда уж очень на злобу дня, так что читать их через пятьдесят лет было уже немного бессмысленно. С Моэмом в этом плане, конечно, проще, он-то как раз ориентировался на будущие поколения.
, а ощущение именно такое — как будето слушаешь, а не читаешь. Во-вторых, я позорно не знала о жизни Моэма почти ничего, так что теперь наверстываю, и это весьма интересно. Я и предположить не могла, что «Бремя страстей..» настолько автобиографично. То есть насчет каких-то моментов (например, как Филип утрачивает веру) я была уверена, что их Моэм с себя писал, потому что, мне кажется, такие вещи нельзя так описать, если они не происходили внутри тебя самого, но вообще не думала, что фактическая канва настолько совпадает с биографией автора. Если судить по кратеньким оговоркам, даже обе любовные линии Филипа имели место быть с самим светилом английском литературы, о ужос. И еще радуют такие очень человеческие детали: что он терпеть не мог, когда до него несанкционированно дотрагиваются, или что жалел, что не может как следует напиться в компании, потому что организм помногу не принимает, а то б, наверно, ему спьяну было проще людей любить. И наконец, Моэмчик заставляет меня заделывать дыры в банальной эрудиции и вообще слегка разминать моск — выписывать и гуглить незнакомые фамилии, вспоминать Беркли с Юмом, составлять списки «маст рид» и «маст перерид», и это приятнее всего. Последний раз я так вот сидела с бумажкой, ручкой и гуглем, когда читала «Маятник Фуко», но до эрудиции Эко дотянуться совершенно нереально, а моэмовская радует своей принципиальной достижимостью. Очень люблю вот именно такую прозу, бесссюжетно-рассуждательную, с кучей отсылок иногда к знакомым тебе источникам, иногда — нет, помнится, в последний раз мне так же доставляли оруэлловские «Мысли в пути», только эссе Оруэлла были иногда уж очень на злобу дня, так что читать их через пятьдесят лет было уже немного бессмысленно. С Моэмом в этом плане, конечно, проще, он-то как раз ориентировался на будущие поколения.